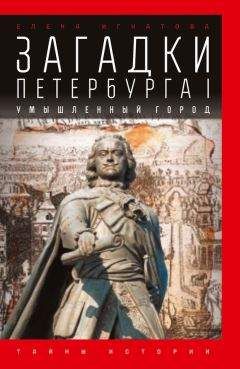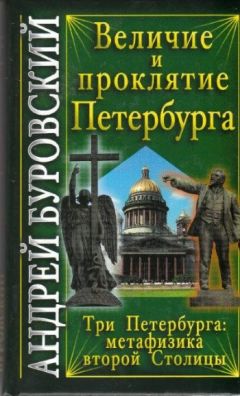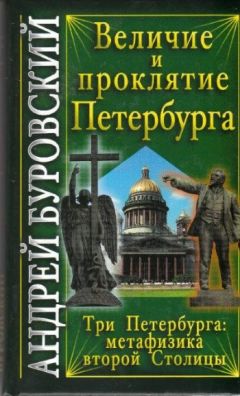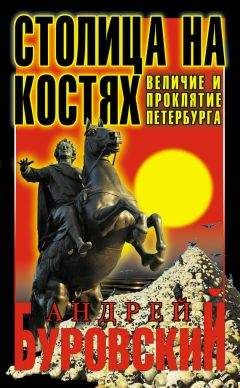Елена Игнатова - Загадки Петербурга II. Город трех революций
Возможно, Утесову тоже было не слишком уютно на этом зловещем пиршестве, его место было в кругу творческой молодежи, которая вечерами заполняла зал Дома кино и на вопрос ведущего: «Как живете, караси?» — хором отвечала: «Ничего себе, мерси!» «Караси» трудились в литературе, журналистике, кинематографе, воспевали героику Гражданской войны и социалистического строительства и обличали его врагов. Они работали не за страх и не за совесть, а за право быть вровень с эпохой, за одобрительный кивок вождя, и размашисто малевали ложь поверх измученной жизни. Чем талантливее были мифотворцы, тем ярче воспевали насилие:
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка;
Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Так Эдуард Багрицкий славил деятельность ВЧК и коллективизацию. Николай Олейников презрительно называл такое искусство «кишочками». «Кишочки» проглядывали в сочинениях о светлом будущем; Алексей Толстой писал в 1933 году о «новом материке»: «1943 год. Электрический поезд мчится вдоль пересохшего русла реки… Десять лет назад здесь бешено прыгали желтовато-прозрачные воды Невы». Поезд мчался мимо пересохшей Невы в тундру, где цвели сады и шумели хлеба, выращенные советскими людьми. (В 1943 году в тундре росла не пшеница, а лагеря, а блокадники черпали воду из не пересохшей, к счастью, Невы.) Ленинградская кинофабрика выпускала фильмы об ударниках труда и врагах социалистического строительства. Нина Берберова вспоминала, как в 1935 году ее отца на Невском остановил «режиссер Козинцев и сказал ему: „Нам нужен ваш типаж“. — „Почему же мой? — спросил отец. — У меня нет ни опыта, ни таланта“. — „Но у вас есть типаж, — был ответ, — с такой бородкой и в крахмальном воротничке, и с такой походкой осталось всего два-три человека на весь Ленинград“… И отец мой сыграл свою первую роль: бывшего человека, которого в конце концов приканчивают». Потом было еще несколько ролей — саботажник, вредитель, агент империализма. В старости мастера искусств говорили, что тогда они жили в русле времени и верили, что новое всегда право и что главная правда — в силе.
Разрыв между мифом и реальностью виден на простых примерах: в 1930 году на XVI съезде ВКП(б) было провозглашено, что пятилетний план развития промышленности уже выполнен. При этом каждый делегат съезда получил подарок: право купить по льготной цене в спецмагазине ОГПУ три метра бостона, 10 метров бумажной материи, две пары нижнего белья, две катушки ниток, два куска простого и кусок туалетного мыла, резиновое пальто и пару обуви. Наговорившись о победе социализма в промышленности и рассовав по карманам резиновых пальто катушки и мыло, делегаты разъехались по домам. А ведь за несколько лет до этой сокрушительной победы мыло, нитки и нижнее белье продавались в городских магазинах. В Ленинграде, как на тонущем корабле, стали избавляться от «балласта» — понизили пенсии по старости. Е. А. Свиньина стала вместо 13 рублей получать 11, а плата за комнату осталась прежней — пять рублей в месяц. На остаток она могла выкупить паек: хлеб из расчета 200 грамм в день, полкило макарон и 50 грамм чая в месяц. «В этом году особенно трудно живется, даже капусты, ни кислой, ни свежей, не могу найти, так что беднякам очень круто приходится», — писала она в 1930 году. Отоварить карточки было нелегко, в городе не хватало продовольствия, и, промаявшись несколько часов в очереди, люди оказывались перед запертой дверью. Тогда появился новый вид заработка: «Стою по найму в очередях за продуктами, получаю за это разно, иногда 40 коп., а иногда 20, это зависит от успешности моего стояния, а иногда и ничего, если ничего не принесу», — писала Свиньина в декабре 1930 года. Представим эти очереди стариков, мерзнущих в надежде заработать 20 копеек, или нищих, обращавшихся на улицах к иностранцам на немецком, французском, английском языках. Впоследствии с временами ленинградского правления Кирова свяжут представление о либерализме и ослаблении репрессий, но это не так, Киров был ликвидатором остатков былой жизни города. Именно при нем происходило разрушение интеллектуальной среды, высылка интеллигенции, дворян, и даже его смерть послужила этому делу — после его убийства в «кировском потоке» были высланы десятки тысяч ленинградцев.
«Нетрудовой элемент» бедствовал, а как жилось трудящимся Ленинграда? В семье Аркадия Манькова из пяти человек работали трое, но их общего заработка «не хватает даже на прожиточный минимум — сплошь и рядом нам приходится голодать, мерзнуть и лишать себя самого необходимого». Пайковых продуктов хватало на несколько дней, а дальше перебивайся как можешь. Вот свидетельства ленинградцев той поры: «Едим каждый день картофель, капусту и разных видов кашу»; «мы питаемся так: картошка, черный хлеб и кипяток»; «ем один раз в сутки, тут уже все — и чай, и каша, и хлеб». С. Н. Цендровская вспоминала, как в 1931 году в ее классе «на уроке биологии проходили тему „Домашние животные и птицы“. Учителю надо было продемонстрировать кости скелета курицы». «Кто дома ест куру и может принести все ее косточки после обеда?» — спросила учительница. Из сорока учеников подняла руку одна девочка, и класс «изучал» курицу по косточкам, принесенным этой девочкой из зажиточной семьи.
Положение рабочих в начале 30-х годов напоминало сложившееся к началу 20-х, их заработки постоянно уменьшались за счет увеличения норм выработки и понижения расценок. Но в 30-х годах на плечи трудящихся легла еще одна повинность — государственные займы[94]. Государство ежегодно «занимало» (без отдачи) у граждан деньги в фонд пятилетки, и не по мелочи, а месячную или полуторамесячную зарплату! Аркадий Маньков записал, как в 1933 году проходила подписка на заем на заводе «Красный треугольник», где он работал. Часть рабочих безропотно согласилась отдать месячную получку, но многие заупрямилась — как прожить месяц без денег, чем кормить семью? За дело взялись заводские агитаторы, шутовская процессия с духовым оркестром и рогожным знаменем обходила цеха, это «знамя» водрузили в цеху, который отставал с подпиской. «На чумазых лицах рабочих появилась широкая, ироническая улыбка, и кто-то произнес: „Ну, вот и все в порядке“». Но на другой день в цеху появились плакаты: «Мы плетемся в хвосте передовой политической кампании — подписки на заем! Личным примером политической сознательности покажем свое передовое лицо — 150 % зарпла́ты взаймы государству, и ни копейки меньше!», «Позор и проклятие гробовщикам займа!». А еще через день «в цеху появилось человек 20 посторонних лиц. Кто они такие? Часть их — краснофлотцы, присланные из Кронштадта проводить подписку, часть — каких-то других военных, остальные — работники спецчасти нашего завода». Вспомним начало 1921 года: тогда питерские рабочие отвернулись от восставших в Кронштадте, а теперь кронштадтские матросы обирали рабочих заодно с особистами! «Действительность: противоречия между людьми в наиболее обостренной, циничной форме… — проницательно заметил Маньков. — Люди так разъединены и разбиты на отдельные части и атомы, что дальше идти некуда». Особисты и моряки стыдили неподписавшихся на заем, грозили лишением карточек, и вот «работница, обливая написанное слезами, кое-как выводит на подписном листе свою фамилию». Горстку самых упрямых отвели в «красный уголок», где «засело человек 15 агитаторов, к которым по очереди вводили работниц. Некоторые из них упирались, кричали, плакали. Их втаскивали насильно, усаживали на стул и, размахивая кулаками, невероятно крича, вдалбливали истину в голову». Истина была проста: паспорта выдавались на определенный срок, их возобновляли при наличии характеристики с работы; не подпишешься — не будет характеристики, а значит, и па́спорта — и вон из Ленинграда!
«Жестокие люди, жестокое время, и все это когда-то пройдет, как проходит все на свете, и чего ради идут эти упражнения в развитии бесчеловечности», — писала Е. А. Свиньина. Жестокости хватало с избытком: в марте 1932 года пенсионеров из «нетрудовых элементов» лишили хлебных карточек — им пора на кладбище, а не хлеб есть! И все же люди оставались людьми: «Уже несколько лиц, конечно далеко не богатые, но знающие об этом постановлении, обещали сами делиться со мной, а мне много не надо — будет у них хлеб, дадут кусок и мне», — сообщала дочери Свиньина. Кто эти филантропы, которые сохранили доброту и человечность в бесчеловечное время? «Дают мне хлеб самые разнообразные, даже незнакомые люди всевозможных положений, узнавшие, что я без хлеба… даже совсем почти деревенские женщины — я говорю „почти“, потому что они теперь уж не на земле, а вынуждены быть на заводах, их хозяйства уже не принадлежат им, но душа и сердце у них еще собственные, поэтому они находят нужным делиться своим хлебом с такими, у кого его отняли». Старая аристократка и бывшие крестьянки, работницы, плачущие в «красных уголках», — все они обездоленные, несчастные, но именно такие люди сохранили для нас тепло и свет человечности.